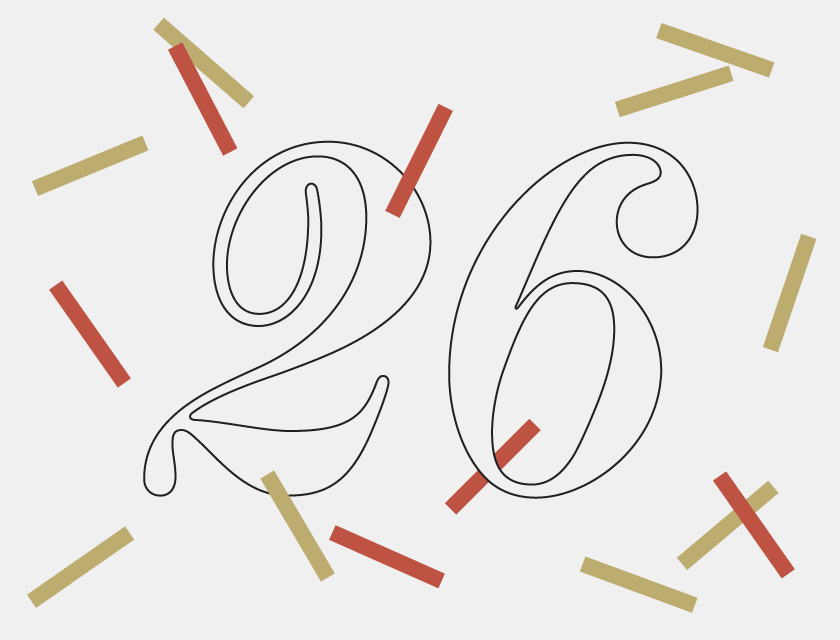6 ноября ушёл из жизни Михаил Жванецкий — большой писатель, прославившийся благодаря эстрадным номерам, увековечивший в текстах бездну советских нелепиц, воспевший Одессу, море и жизнь во всех её проявлениях, описавший и объединивший весь космос позднего СССР. Максим Семеляк прощается с его голосом, пластинками и ускользающим русским языком.
РИА «Новости»
Михаил Жванецкий был одним из апостолов советской религиозности — наряду с Высоцким или, например, Пугачёвой. С первым его постоянно сравнивали, а вторую он очень любил сам. Хорошо помню, как это обстоятельство расстраивало его возрастных интеллигентных поклонников в 1980-е — как же так, мы-то его с Галичем и Войновичем через запятую, а он вдруг за Пугачёву, и ещё и аннотации к пластинкам Розенбаума пишет, тщательнее надо.
В строгом соответствии с принципами советской религиозности жанр, в котором работал Жванецкий, напоминает даже не проповеди, а послания — послание к той же интеллигенции, послание к одесситам, послание к физикам, послание к женщинам, послание к алкоголикам, послание к жлобам, послание к союзным республикам, послание к инженерам, послание к союзу коммунистов и беспартийных и так далее по всей территории, которая во многом благодаря его усилиям превратилась в империю смеха. Его культ был герметичным, ксеноцентричным и рациональным — сами инициалы М/Ж намекали на глобальную безальтернативность этих анимированных схем.
Я принадлежу к поколению, которому Жванецкий явился в раннем детстве, на манер одесского Оле-Лукойе — подобных мне сотни тысяч, а то и больше. Александр Баунов весьма точно подметил у себя в фейсбуке, что перестроечный подросток ставил на одну полку винилы Жванецкого и «Аквариума» — в такой последовательности. Я, конечно, не удержался бы тут от комментария «он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь», а кроме того, слегка развил бы мысль в ту сторону, что ставший в перестройку легитимным пресловутый русский рок в детском сознании был просто следующим этапом после программ «Вокруг смеха» и «Весёлые ребята». Переход был тем более мягким, что буферами для него в 1986 году послужили разрешённые чуть пораньше группы «Секрет» и «Браво», которые по стилистике, в общем, не так уж далеко ушли от «Вокруг смеха». Советская смеховая культура в младшем школьном возрасте была исключительно важна и служила странным трамплином для чего-то совершенно иного и плохо предсказуемого — я, например, почти уверен, что моё юношеское пристрастие к The Velvet Underground так или иначе выросло из детской любви к Семёну Альтову Семён Теодорович Альтов (при рождении Альтшуллер; р. 1945) — писатель-сатирик, драматург, режиссёр. Окончил Ленинградский технологический институт, с 1971 года публиковался. Произведения Альтова исполняли Геннадий Хазанов, Ефим Шифрин, Владимир Винокур. Автор последнего спектакля Аркадия Райкина «Мир дому твоему», соавтор комедийного сериала «Недотёпы». .
РИА «Новости»
Жванецкий, безусловно, имел серьёзные связи с большой литературой, тут прослеживаются линии Бабеля и Зощенко, иногда возникает Аксёнов, иногда даже Трифонов, чисто фабульно: например, «Обмен» легко представим в виде миниатюры Жванецкого. Строго говоря, рассказ Шукшина «Срезал» тоже нетрудно представить в переложении Карцева и Ильченко: «Проблемы нету, а эти… танцуют, звенят бубенчиками… Да?» Если говорить о случайных совпадениях и контекстах, то, конечно же, у Жванецкого много чисто беккетовского абсурда — те же Карцев и Ильченко иной раз беседуют совершенно как Владимир и Эстрагон. А вот наследников у Жванецкого, пожалуй что, и нет — ну если, конечно, не считать Пелевина его парадоксальным инвариантом (как ни странно, у них есть точки пересечения).
Как бы там ни было, Жванецкий — это музыка, а не чтиво, он с головой принадлежит аудиовизуальной культуре, где интонация главнее метафоры. Его можно при желании воспринимать как книгу, но сам строй его текстов рассчитан на устную речь — возьмите, к примеру, одиознейшую миниатюру про Аваса: она попросту лишена смысла в режиме чтения, поскольку целиком держится на аттракционе произношения. Кстати, тупого доцента почему-то зовут Николай Степанович — уж не на Гумилёва ли намёк, к вопросу о большой литературе?
Роман Карцев и Виктор Ильченко исполняют миниатюру Михаила Жванецкого «Авас»
С Высоцким, помимо собственно мастерства и востребованности, его сближает охват и учёт буквально всех забот и тревог советского гражданина: например, оба воспели приёмник «Грюндиг» и высказались по инопланетной повестке. Но вообще, Жванецкий ближе скорее не Высоцкому, а Юлию Киму — говорящему на всю страну чужими голосами и под другими фамилиями.
У позднего Жванецкого есть такой текст: «На шампанском с водкой и борщом — маршрут короткий: стол, стул, пол, стул, стул, постель в чужом доме, в одежде и в носках, поиски туалета ночью и страшный испуг от ночного отражения в трёх зеркалах». Это действительно гениально подмечено — ночной испуг от отражения в трёх зеркалах, полагаю, знаком всякому пьющему человеку.
Однако Жванецкий и сам устанавливал перед аудиторией систему из трёх зеркал, отражение в каждом из которых могло внушить своеобразный ужас. Что это были за отражения?
В первом отражалось то, что можно обозначить казённым словом «спрос». Тексты Жванецкого сплошь состоят из требований, запросов, потребностей, надобностей, жалоб, увещеваний. «А почему, собственно?» — вот одна из ключевых его формул. Он учил вполне классическому сомнению, по Ортега-и-Гассету, сомнению как волновому колебанию, которое «позволяет нам осознать, до какой степени оно является верованием, насколько оно под пару верованию. Ведь сомневаться — значит пребывать разом в двух антагонистических верованиях, соперничающих между собой, отталкивающих нас от одного к другому, выбивая из-под ног почву. В «сомневаться», «раздваиваться» ясно просматривается «два».
Дефицит из обычной потребительской нехватки превращается в основу существования — так старики на перроне в одной его миниатюре начинают с поиска очков, газет, адреса, а заканчивают бытийным — где сон? «У нас чего только может не быть — у нас всего может не быть» — вот советский Dasein Dasien, буквально «здесь-бытие», «существование», «экзистенция», — философское понятие, ставшее основополагающим в труде Мартина Хайдеггера «Бытие и время». Характеризует человеческое существование как действие, дело, «праксис». Через раскрытие дазайн человек может обрести смысл бытия. по Михаилу Михайловичу. Потребительская корзина из-за своей перманентной пустоты превращалась в воздушный шар, на котором круглоголовый смеховик Жванецкий взмыл над страной и описал все её рельефы.
Поэтому рай в его мифологии — это склад без вывески, на котором всё есть, включая оленьи языки и пиво восьми сортов. А вывеска на этом складе опять-таки отсутствует, потому что в мире Жванецкого письменному слову большого доверия нет. А доверие есть только к сократовскому стилю вопрошания — а чем докажете, что это ваша фотокарточка? При этом ты спрашиваешь обслуживающих работников ровно до тех пор, пока не поймёшь, что обслуживающий работник — ты сам. Поэтому персонажи Жванецкого сплошь и рядом разговаривают сами с собой: «Мне подождать? Я подожду! Вы меня не вызывали? Была повестка!»
Был выпуск «Фитиля» 1976 года по его сценарию, под названием «Без дураков». Там Евстигнеев на заводе допрашивает Мягкова — почему не выпущена новая продукция? Тот перечисляет какие-то причины, а потом находит единственно верный ответ-коан — не выпустили, потому что не выпустили.
РИА «Новости»
Подобного рода конструкции как раз отражаются во втором зеркале Михаила Жванецкого — том, что отвечает за всякого рода бесконечность и обречённость, когда, по замечанию самого М. Ж., «вопрос, как жить и для чего жить, становится восхитительно неуместным». Жванецкий писал о вечности в том смысле, что выстроенный им универсум не предполагал никаких изменений. Да, в Париже розовый воздух и повсюду маленькие бистро, а здесь — «нет времени: втискиваю страшное количество приборов в спускаемый отсек, и изящно решаю, и острю на учёном совете, и ещё копаюсь немножко в саду». В крайнем случае вопиющие противоречия можно закольцевать и на том успокоиться: «Я понял, что Новая Зеландия похожа на Кавказ под Сухуми, Австралия — тот же Алтай, Нью-Йорк напоминает Ялту чем-то».
Но императивный принцип бытия «включаешь — не работает», он не подлежит пересмотру. Часто цитируемый в эти дни его монолог о смерти — «Так все же умерли — и ничего! живут» — как раз являет собой продолжение этой линии. Ну да, «мы не решили эту задачу в своём прохладном городке». Смерть в мире М. Ж., по сути, продолжение линии дефицита и нехватки. Так, миниатюра «Ставь птицу» больше смахивает на репортаж из царства теней, а уж про собрание на ликёро-водочном заводе с фантомным начальником транспортного цеха и говорить нечего. В кошмаре «В греческом зале» рассказчик между делом укладывается в гробницу. Ну и конечно, вспоминается миниатюра про незадачливого соседа Сигизмунда Лазаревича, которая и вовсе заканчивается весёлым летальным исходом — «...а вот вам и покойничек».
Мир Жванецкого фатально и гармонично собран и скроен. В отличие от миров Высоцкого, тут нет хаоса и противоречий, ситуации близки к идеальным:
— К четвёртому?
— К пятому.
<…>
— Не сделаю я ему ни черта.
— А мне это не нужно.
Ответов всегда в итоге оказывается больше, чем вопросов: «У нас её никто не чувствует, у нас её никто не чувствует, у нас её никто не чувствует…»
Роман Подэрни/Фотохроника ТАСС
Наконец, заглянув в третье зеркало, мы видим там несокрушимое насмешливое одиночество. Все мы при таком раскладе действительно являемся совершенно холостыми, то есть очень одинокими зарядами. Не зря именно Жванецкий ещё в 1970-е годы предрёк самоизоляцию с её командировками в гости и отчётами, кто кому внезапно передал привет. У него была странная миниатюра об ускользающей идентичности (особенно интересная в контексте того, какую именно национальную стезю лирический герой для себя выбрал):
Людей стал избегать. Не хочу лучше, чем у соседа, не хочу хуже, чем у соседа, не хочу вообще, как у соседа, сам по себе хочу... Людей стал избегать... Из Москвы блондинка приезжала — весь Гудаут за ней ходил. Я в землю уткнулся. На месте остался... Ну ты видел такого?!. Лаковые туфли не хочу обувать. Кепку сбросил. Брюки-шаровары надел, рубаху украинскую, трубку. На Тараса Шевченко стал похож. Всё переменил. Сюда переехал. Друзья приезжали, побили всё-таки... А что я могу сделать?.. Больной человек. Хороший врач нужен».
Людей стал избегать, — собственно, об этом огромное количество его текстов. В них всегда есть великое множество примет одиночества: например, чайник обязательно ставят на что-то неподходящее, то на диплом, то на радиоприёмник. Один из самых благостных его текстов про воскресное утро в Одессе, по сути, настоящая ода одиночеству — с яичницей, жареной колбасой, кружкой «25 лет Красной армии», морем, пивом из бидона, невероятным салатом и совершенно искренним признанием — сам бы себя целовал в эти плечи и грудь.
Роман Карцев и Виктор Ильченко исполняют миниатюру Михаила Жванецкого «Воскресный день»
После смерти Жванецкого много писали о том, что он мало изучен, недооценён в академических кругах и вообще, по-хорошему, принадлежит будущему. Может, и так, хотя воображение, если честно, с трудом рисует легионы зумеров, обменивающихся в мессенджерах посланиями: «Нормально, Григорий? Отлично, Константин!»
Будучи вполне официальным дежурным по стране, он по-прежнему прекрасно чувствовал время, но боюсь, что последние четверть века время уже не чувствовало его. «Я всё время предсказывал прошлое и не ошибся» — это из его текста 2020 года.
Изменился сам тип юмора, остроумие перестало быть несущей конструкцией, потому что сегодняшний смех связан в первую очередь с глупостью. Глупость бывает двух видов — грубая и лирическая, наивная, как раз процветающая в среде тех, кто, по идее, пришёл на смену той, советской, научно-технической аудитории Жванецкого. Дело в том, что в текстах Жванецкого всё так или иначе заканчивалось на дураках. Новое время показало, что это не предел — дураки могут прикинуться дурачками, эксплуатируя разнообразные неотенические Неотения — в биологии проявление у взрослых особей черт, свойственных детским особям. прихваты и имитируя лёгкое комфортное безумие.
Смех Жванецкого был другим, он шёл от ума, жёсткости, конститутивной недомолвки, умел быть вполне высокомерным и даже номенклатурным: «Сохранились костюмы и обувь, но, когда мы над старинной дворянской одеждой видим лицо и всю голову буфетчицы современного зенитного училища, что-то мешает нам поверить в её латынь». Но Жванецкий и сам теперь латынь, для новых поколений его тексты представляют собой набор крылатых выражений, смысл которых давно упорхнул. Прошу к столу — вскипело. Что, простите? Ставь птицу? Какую ещё птицу, куда, о чём это вообще?
Роман Карцев и Виктор Ильченко исполняют миниатюру Михаила Жванецкого «Ставь птицу» (1977)
Как сказано в одном его монологе — «Иди домой, но пойми иронию». Писатель, который всю жизнь высмеивал дефицит, в результате сам же им стал — и нам действительно остаётся спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел. Виктор Ильченко Виктор Леонидович Ильченко (1937–1992) — советский артист эстрады, вместе с Романом Карцевым — постоянный исполнитель миниатюр Михаила Жванецкого. В молодости работал вместе с Михаилом Жванецким в Одесском порту. В студенческие годы создал вместе со Жванецким самодеятельный театр «Парнас-2», к которому позже присоединился Карцев. С 1963 по 1969 год вместе с Карцевым и Жванецким работал в Ленинградском театре миниатюр Аркадия Райкина, позже выступал с Карцевым самостоятельно, играл на сцене московского театра «Эрмитаж», а в 1989 году они создали собственный, Московский театр миниатюр. , умерший из этой троицы первым, давно предупреждал про те самые недостижимые оленьи языки со склада, где всё есть (а по сути — это ведь ровно про ускользающий русский язык самого Михаила Жванецкого):
«Вы — их есть не будете.
Они — своеобразного посола».