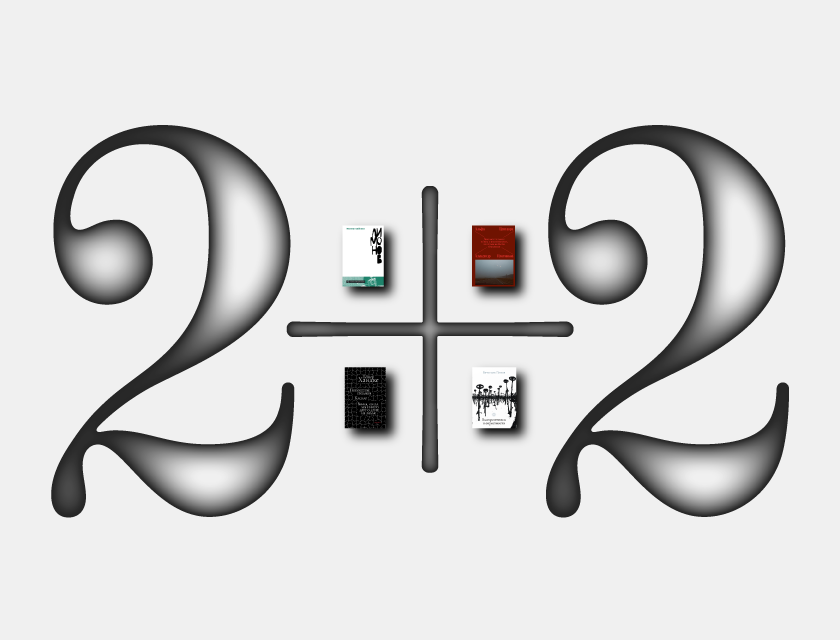В рубрике «2+2» редакторы «Полки» Лев Оборин и Алёна Фокеева рассказывают о новых книгах. В очередном выпуске — галерея великих историков от Ричарда Коэна, сборник стихов Лилии Газизовой, заметки белорусской писательницы о работе в свечном бутике и рассказы об «эгосистеме» культуры.
Ричард Коэн. Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом / пер. с англ. Ильи Кригера, Екатерины Владимирской. М.: АСТ; Corpus, 2025.
В 1970–80-е Ричард Коэн был известен как фехтовальщик — представлял Великобританию на Олимпиадах, выигрывал престижные турниры. Параллельно он работал литературным редактором — с такими авторами, как Джон Ле Карре, Кингсли Эмис и крупнейший военный историк Джон Киган. В 1990-е он запустил своё издательство с упором на «качественный нон-фикшн», а затем сам стал нон-фикшн писать — притом очень разнообразный. Четыре его книги — это история фехтования, большой том об изучении Солнца, работа с несколько самонадеянным названием «Писать как Толстой» и, наконец, «Творцы истории». Это попытка проследить развитие исторической науки с Античности до наших времён с фокусом на фигуры выдающихся историков. Почему важно, каким человеком был историк — и как это влияет на то, что он пишет? Как идеи — и идиосинкразии — одного человека могут влиять на восприятие истории у целых поколений потомков? Историография была «личным делом» с самого её зарождения — с непохожих друг на друга Геродота и Фукидида. В Библии, если рассматривать её как исторический источник, отчётливо видно разнообразие подходов её авторов. Вражда специалистов по Второй мировой войне Алана Тейлора и Хью Тревор-Ропера стала одним из ключевых сюжетов британской гуманитаристики в 1960–80-х годах. И так далее.
Концептуально книга Коэна — не новаторская: скажем, так же устроен бестселлер Роберта Хайлбронера «Философы от мира сего. Великие экономические мыслители: их жизнь, эпоха и идеи» (его перевод тоже выходил в «Корпусе»). Коэн сразу признаётся, что многие великие историки в его 700-страничную книгу не попали — она скорее не полна, а репрезентативна. Может быть, стоило вывести женщин-историков из загона одной-единственной главы. Или включить Мишле, Буркхардта, Моммзена, Валлерстайна вместо Джона Ноулза: открывающий книгу очерк о нём довольно анемичен. Дальше становится увлекательнее — не в последнюю очередь благодаря хорошо подобранным цитатам, характеризующим историков. Здесь есть рассказчики, у которых история — собрание отдельных ярких случаев и не всегда достоверных анекдотов, и концептуализаторы, стремящиеся к сравнениям и обобщениям (фигура, символизирующая переход от одного типа историка к другому, — Плутарх). Есть исторические деятели — от Юлия Цезаря до Черчилля, — сами описавшие свои свершения. Есть журналисты — репортёры и расследователи, которые не могли появиться раньше Нового времени. Есть просто фантазёры — приложившие руку не только к «изобретению» той или иной нации, но и к созданию всемирного мемофонда.
Есть, наконец, фигуры, которых обычно историками не считают: писатели. Таков Шекспир, которому посвящена лучшая глава книги. Шекспировская фантазия, несомненно, повлияла на восприятие Ричарда III и Юлия Цезаря, а его изображение прошлого Англии было и крайне занимательным, и новаторским: «Почти во всех исторических пьесах Шекспира важные реплики отданы персонажам из низов и среднего сословия. Так драматург указывает на возможность альтернативных голосов и противоречивых мнений о происходящем». Но Коэн показывает также, как в шекспировской трактовке истории сказывались эволюция его политических воззрений (насколько мы можем о них судить) и близость его труппы ко двору.
С одной стороны, Коэна интересуют те, кто создал сами приёмы историографии: например, Макиавелли, написавший «первое аналитическое исследование современного типа, знаменующее переход от теоцентричной вселенной к антропоцентричной, где небесные награды за хорошее поведение уже не рассматривались как надёжно гарантированные». Автор «Государя» — не идеалист, а реалист, что и высказалось в его политической теории, часто воспринимаемой как циничная; те же соображения можно применить к его историографической методологии. Впрочем, об этой методологии Коэн приводит лишь самые общие соображения. Зато он подробно пишет о таких академических историках, как Леопольд фон Ранке, применивший к истории те же требования, что к точным наукам; Брюс Кэттон, умудрившийся выдержать беспристрастный тон в такой сложной теме, как Гражданская война в США; или Эрик Хобсбаум, у которого, напротив, политическая ангажированность лежала в основе всей работы.
С другой стороны, Коэна ещё больше интересует, «как это написано»: он отмечает любознательность Геродота, восхищается сарказмом Гиббона и «несравненным стилем» Кигана, оценивает полемизм Троцкого, которому в книге уделено больше места, чем Марксу. Для нас важно, что Коэн постоянно подчёркивает связь историографии и литературы. Отдельная глава посвящена авторам великих исторических романов — от Вальтера Скотта и Бальзака до Льва Толстого. Сложные размышления Толстого об истории Коэн пытается суммировать, но гораздо сильнее его волнует толстовская метафора — такая, как сравнение опустевшей Москвы с «домирающим, обезматочившим ульем». Если вспомнить, что у него есть книга «Писать как Толстой», становится ясно, что предмет «Творцов истории» — не столько биографии, сколько различные опыты письма о прошлом: у каждого, подразумевает Коэн, можно чему-то научиться.
Историческая проза, которая может быть высоколобой и популярной, тенденциозной и спекулятивной, — это и зеркало, в которое смотрится историография, и своего рода матрица, из которой она может вырастать. Один из примеров — работа Александра Солженицына: сначала «Один день Ивана Денисовича», затем — «Архипелаг ГУЛАГ». (Тут у Коэна не обходится без ошибок: он пишет, что общественная реакция на дебют Солженицына «так встревожила власти, что ему запретили впредь публиковаться», — ничего подобного, Солженицын после «Ивана Денисовича» опубликовал в СССР ещё несколько произведений.) «Ни один другой писатель не имел такого влияния на ход истории», — пишет Коэн о Солженицыне. Маркс на историю повлиял ещё серьёзнее, но его Коэн к писателям не причисляет, — впрочем, суть тут не в терминологии. Идея об историке, влияющем на историю, вполне внятная. Она может вызвать ассоциации с физикой (наблюдатель влияет на наблюдаемое явление), но нуждается в развёртке. Историк — человек своего времени; его труд неизбежно станет историческим источником, отображающим идеологические рамки этого времени, — о чём пишет тот же Толстой в эпилоге к «Войне и миру». Выдающиеся историки пользуются этим неизбежным эффектом — как, например, Эдвард Гиббон, который «знал, что все рассказы о прошлом имеют отношение к настоящему». Ну а некоторые писатели, занимающиеся историей, начинают видеть в таких занятиях своего рода мессианство. И если для Владимира Шарова, которого Коэн кратко упоминает, это само по себе было проблемой, достойной исследования, то поздний Солженицын относился к этой идее некритически.
Профессии писателя и историка разошлись уже в девятнадцатом веке — и непонятно, навсегда ли. Современные авторы прекрасно понимают, что и зачем они делают с историческим материалом, — будь то Тони Моррисон или Хилари Мантел, для которой реалии Тюдоровской эпохи ценны настолько, насколько они помогают «воссоздать ткань жизненного опыта». Более экспериментальное, модернистское письмо нетрудно связать со школой «Анналов», которая совершила в историографии поворот от великих событий и выдающихся деятелей к экономике, статистике и частной жизни. Но, разумеется, важнейшее литературное последствие школы Марка Блока, Броделя и Ладюри — это тот научно-популярный нон-фикшн, к которому мы сегодня привыкли. Тот, в котором через частный сюжет, через предмет, явление, географическую область раскрывается не только конкретная эпоха, но нечто более длительное и глубокое.
Книга Коэна — обзорная работа, а всякая такая работа обречена на неровности и лакуны. Скомканность в отношении современных подходов, возможно, объясняется недостатком дистанции: судить о Геродоте и о современных постколониальных исследованиях — разные задачи, и сейчас мы присутствуем при кипучем установлении новых подходов, почти моментально проникающих из академической среды в общественное сознание. Эти подходы растут из трагедий, войн, несправедливости, ставят своей целью переписать историю, которая долгое время отражала взгляды привилегированных групп. Коэн уделяет внимание в первую очередь текстам, появившимся на волне движения Black Lives Matter, но это может быть и другой социальный взрыв. «Историку историков» нужно реагировать на тексты, которые кажутся «горячими» сейчас, но в будущем им не гарантирован классический статус. Скорее рухнет само представление об историографическом каноне. Коэн не касается той информационной революции, которую обещает нам ИИ; между тем имеет смысл думать о том, как будет выглядеть представление об истории, скомпилированное по запросу из тысяч источников и при этом подстраивающееся под пользовательские предубеждения. Ясно только, что те авторы, которым Коэн посвятил свою книгу, продолжат вносить свой вклад в понимание прошлого — даже в редуцированном виде.
Но даже считая такое будущее антиутопическим, мы, возможно, впадаем в идеализм. В одной из финальных глав Коэн пишет, как историю в угоду идеологии или политическому моменту систематически искажают в разных странах (говоря при этом о недопустимости её переписывания), — фокус при этом делается на советской и постсоветской России. В отношении истории технология будущего может соединить Оруэлла с Хаксли — цензурируя одно и упрощая другое.
Так что будет неплохо, если кому-то тогда попадётся эта далеко не идеальная, но всё-таки масштабная книга, посвящённая ещё более масштабным трудам.
— Л. О.
Лилия Газизова. Не быть Фемке Бол. М.: Пироскаф, 2025.
Фемке Бол — нидерландская бегунья, олимпийская чемпионка, рекордсменка мира. «Никогда мне не быть Фемке Бол», — пишет в своей новой книге поэтесса и переводчица Лилия Газизова. Это печальное обстоятельство поясняется в другом стихотворении:
Часть меня
По-прежнему бежит
Самую сложную дистанцию
Королевы спорта <…>
Выполняет норму
Мастера спорта,
Но не попадает
В юношескую сборную
Советского Союза
Для участия
В юношеском чемпионате мира,
Рыдает,
Спрятавшись где-то в трибунах,
И не знает,
Что была счастлива.
Поначалу кажется, что тут ошибка: надо бы «что счастлива», без «была». Но потом понимаешь, что ошибки нет: та «часть меня» по-прежнему живёт и не осознала тогдашнего счастья; осознание это — работа какой-то другой части личности. Сохранить весь жизненный опыт, все прожитые жизни — почему бы не назвать это счастьем?
То ясное верлибрическое письмо, которое выбирает Газизова, может ассоциироваться с исповедальностью, но в её текстах нет ни надрыва, ни болезненной монотонности: к возможным определениям стихов Газизовой часто хочется прибавить меметическое «здорового человека». То есть, например, человека, осознавшего травматический опыт, признавшего его трагизм — но и вынесшего из него урок:
Часть меня
По-прежнему бежит
Самую сложную дистанцию
Королевы спорта <…>
Выполняет норму
Мастера спорта,
Но не попадает
В юношескую сборную
Советского Союза
Для участия
В юношеском чемпионате мира,
Рыдает,
Спрятавшись где-то в трибунах,
И не знает,
Что была счастлива.
Соответственно, в открытые двери говорящая заглядывает со всей охотой. Переехав в Турцию, Газизова исследует не состояние эмиграции, но страну — и наброски турецких пейзажей складываются в «новую картину мира, / Может быть даже — / Картину счастья». Даже несчастье в качестве контраста взыскует счастья — о разрушительном землетрясении 2023 года Газизова пишет: «Траектории падающих предметов / Были причудливы, / Как уши любимого». Стихи из этой книги почти лишены политического измерения — в том тексте, где оно яснее всего проявляется, ему сопутствует недоверие к коллективному действию: «всегда в этом мире / Найдутся баррикады, / На которые надо пойти». Но открытость этих стихов, самодостаточность их героини — сама по себе statement.
— Л. О.
Татьяна Замировская. Свечи Апокалипсиса. М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2025.
Белорусская писательница и музыкальный критик перебирается в Нью-Йорк — и ей отчаянно нужна работа. Просто какая-нибудь. Поэтому предложение «срочно приехать и вязать бантики, и упаковывать коробочки» она воспринимает как приглашение на обряд инициации. Первая нью-йоркская работа затягивает, и вот писательница — постоянный работник магазина, где продаются очень, очень дорогие свечи, упаковки спичек по тридцать долларов штука и роскошные антикварные мелочи.
Новая книга Замировской — сборник заметок или, если угодно, бортовой журнал, появившийся благодаря одноимённому блогу о жизни свечного бутика, который она вела на протяжении нескольких лет. Это и совсем коротенькие анекдоты, и развёрнутые историй «с моралью» и глобальными выводами о человеческой природе вообще или устройстве большого города в частности («ну вот, я начала писать о том, как устроен Нью-Йорк, и явно же вру!») — смешные, нервные и нежные.
Слово, повторённое много раз подряд, теряет смысл. То же самое происходит с регулярно повторяющимися диалогами с покупателями. Люди, держащие в руках свечки разной длины, интересуются, какая из них короче. Пытаются вскрыть винтажную эмалированную баночку и не верят, что в ней может быть пусто. Нюхают то, что не пахнет и пахнуть не может. Забывают вещи. Со скрипом усаживаются в антикварное кресло детского размера, предназначенное разве что для того, чтобы ставить на него сумочку. Пытаются засунуть пальцы в расплавленный воск. Трогают то, что трогать нельзя, — и остановить их невозможно.
В бутик врываются недовольные приобретённой когда-то свечкой разъярённые люди, вваливаются пьяные и заглядывают ради светской беседы городские сумасшедшие. Бывают, конечно, и нормальные покупатели, но норма — понятие относительное. Вот постоянная клиентка после развёрнутого и очень приятного диалога о природе, погоде и искусстве крадёт выставленную у входа свечу и убегает с ней, как пантера с зажатой в зубах жертвой. Вот милая японская девочка тянется к свече, стоящей на медной тарелочке, переворачивает её, роняет тарелочку, поднимая грохот, и испуганно извиняется. И сразу тянется к следующей такой же свечке на такой же тарелочке, берёт её, переворачивает, роняет...
«Ключ к терапевтичности — ничего не рефлексируйте», — пишет Замировская. «И ещё: не бойтесь стать персонажем. Если вы персонаж, с вами случается всё, что обычно происходит с персонажами». Её книга — как раз о взаимодействии с миром такого придуманного к случаю персонажа — «растерянной белорусской писательницы, которая училась в художественной школе и притворялась экстравертной свечной королевой». Работа в бутике даёт героине возможность наблюдать за людьми, разводя покупателей по разным категориям, ставить социальные эксперименты и придумывать ритуалы общения, создавая индивидуальную мифологию. Но, с другой стороны, она — девушка из магазина в Сохо, где продаются свечи, на этикетках которых написано «Скрипучие половицы Версаля», «Древние мшистые стены» и «Пылающий куст», — сама становится героем городского фольклора и духом места. А дух места не может поддаться унынию, никогда.
Альтер эго Замировской — ироничная и нервная, глас разума в пустыне в основном безобидного абсурда, и наблюдать за её приключениями — большое удовольствие. Об опыте адаптации к нью-йоркской жизни она рассказывает как о погружении Алисы в Страну чудес, и это добрая сказка о том, что чужая придурь и собственная мучительная тревога — не помехи для любви к другим людям, новым местам и самим себе.
— А. Ф.
Андреа Беллини. Лишь бы не работать. Истории о современном искусстве / пер. с итал. Кары Мискарян. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2025.
Андреа Беллини — итальянский и швейцарский куратор, директор Центра современного искусства и арт-директор Биеннале движущихся изображений в Женеве — в этой книге пишет не столько о современном искусстве, сколько обо всём, что его окружает. Обеды и ужины, встречи с коллекционерами и издателями, инвесторами и художниками, круглые столы, ярмарки и вечеринки становятся рамкой для лаконичных остроумных эссе и отправной точкой размышлений о смысле жизни в сегодняшней культурной среде — или его отсутствии.
Кураторы-камикадзе считают, что выставки нужны для демонстрации их собственной уникальности, страстности и вкуса. Кураторы-историки мечтают кого-нибудь «открыть» или «переоткрыть», переформулировать какую-нибудь забытую истину и рассказать поражённому миру, как всё было на самом деле. Куратор-пророк верит, что он избран служить великой цели, до всего остального ему нет дела. Божественный куратор видит отражение собственного гения в любом предмете, попадающем в его поле зрения. Куратор аль-денте не строит из себя большого интеллектуала, зато следует стратегии, точно зная, когда, что и кому следует показать или навязать. Никаких фамилий — только инициалы или имена. Все совпадения, конечно же, случайны — а как иначе?
Описанный Беллини мир — не экосистема искусства, а его «эгосистема», и у неё свои законы и правила. Автор не пытается составить инструкцию по выживанию в этой среде. Он в принципе ничего не советует, ни к чему не призывает — только делится ироничными (а порой и циничными) наблюдениями, иногда горькими, иногда забавными, но чаще — теми и другими вместе. «По правде сказать, слишком уж надеяться не стоит, но и слишком уж отчаиваться тоже».
Кажется, что, рассказывая о собственном опыте, Беллини намеренно убирает себя из уравнения — где бы его герой ни оказался, на какой бы званый ужин или курорт ни занесла его судьба, это всегда происходит случайно, как бы помимо его воли. В центре повествования не альтер эго автора, а встреченные им люди — друзья, коллеги и соперники. «Чтобы управлять крупной и хорошо зарекомендовавшей себя ярмаркой, быть кретином недостаточно», — сообщает Беллини читателю, которому после столкновения с этой сияющей истиной остаётся только растерянно развести руками. И всё же авторская ирония направлена в конечном счёте и на него самого. «Может случиться, что поздно вечером в компании подруги, с которой вы пьёте хорошее вино, вы внезапно поймёте, что ваши обвинения направлены против вас самих, а не против других», — пишет Беллини.
В этой книжке маленьких эссе полным-полно ярких и легко узнаваемых персонажей. И, несмотря на всю свою нелепость, они притягательны — именно благодаря тому, что у автора нет желания делать далеко идущие выводы там, где достаточно откинуться на спинку кресла и наслаждаться.
— А. Ф.