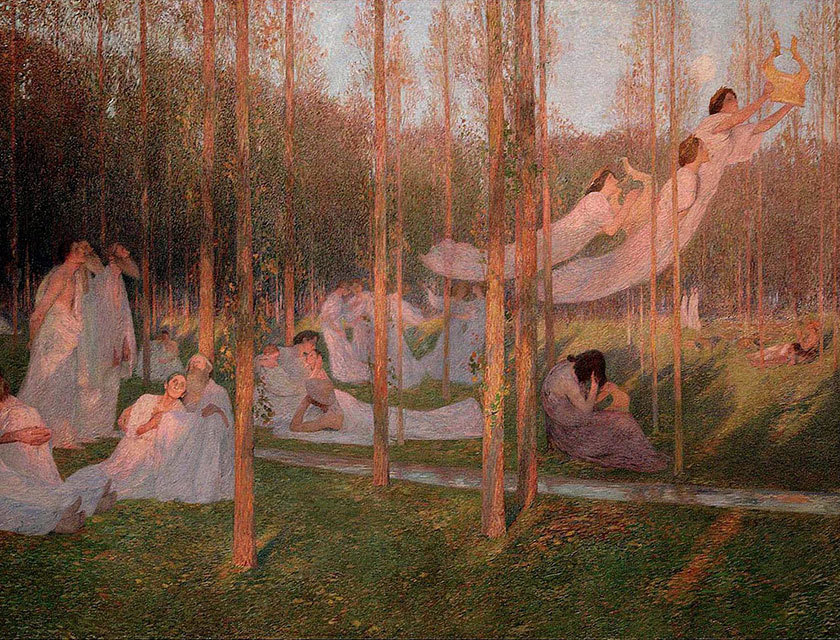«Мы пишем на опавших листьях, которые будут погребены под снегом»
-Редакция «Полки» обсудила с писателем Линор Горалик, как выглядит сегодня русский литературный канон и кого возьмут в будущее. Разговор состоялся в нижегородском Арсенале на фестивале текстов об искусстве «Вазари» 23 сентября 2018 года.
Юрий Сапрыкин: Когда мы пытались определить, о чём пишет «Полка», сразу возникли затруднения. При словах «русская классика» сразу представляется учебник литературы, предсказуемая череда портретов — непонятно, что о них можно сказать нового. Есть хорошее слово «канон», которое в России не очень в ходу, но, наверное, более точно определяет наш предмет. Это литература, прошедшая культурный отбор, признанная в культуре как наиболее ценная, важная и значительная. Но сегодня мы будем говорить не собственно о литературе, а о судьбе самого этого понятия, называем ли мы его «каноном» или «классикой»; о том, есть ли будущее у этой формы бытования литературы. О чём будет писать воображаемая «Полка» через 50 или 100 лет? Кого из современности возьмут в будущее? Можно ли предсказать, что будет происходить с каноном?
Линор Горалик: Сейчас происходит предельно важная, на мой взгляд, вещь. Это децентрализация литературы. Может быть, само слово «канон» становится в какой-то мере нелепым. Представление о том, что существует некий единый канон, очень сужает поле зрения. У каждой социальной группы свой канон, эти социальные группы не разделяются жёсткими границами, а пересекаются, накладываются друг на друга, как и их каноны. Достаточно произнести, например, слово «манга», чтобы понять, о чём я говорю. Мы оперируем словом «канон» так, как будто всем понятно, что имеется в виду, а это всегда немного ловушка. Я знаю, какую роль для меня как для читателя всегда играл канон. Даже четыре роли. Роль первая: для меня как для хорошего советского ребёнка канон всегда был путеводной звездой — что надо прочитать, чтобы считаться культурным человеком. Не в смысле — «чтобы не чувствовать себя бессмысленным мудаком», а чтобы быть хорошо социализированным в определённой группе. Это немало. Вторая роль: задать методологию разговора о литературе. Дать некий эталон, как в Палате мер и весов: обо что мы меряем литературу. Третья роль более интересная — обо что мы меряем другую литературу, которая находится вне пределов канона. А четвёртая роль — дать возможность автору соотноситься или, наоборот, не соотноситься с этим каноном.
Варвара Бабицкая: Я бы добавила сюда ещё пятую роль: канон помогает читать литературу. Любую литературу. Можем ли мы себе представить, что человек, не читавший «Анну Каренину», не знает, о чём она? Конечно, на этот вопрос ответить кратко невозможно, сам Толстой отказывался объяснять, о чём она: «Если бы я хотел словами сказать всё то, что имел в виду выразить романом, то я должен был бы написать роман — тот самый, который я написал». Но эта книга уже вошла в воздух, которым мы дышим. Канон создаёт некоторую конструкцию здания, и чтобы его себе представлять, не обязательно разглядывать каждый кирпич…
Сапрыкин: Некоторый набор жизненных и языковых моделей, в котором ты живёшь. Даже если ты не читал и не помнишь наизусть ту или иную книгу, ты всё равно понимаешь…
Бабицкая: …что она находится в этой кирпичной кладке справа от «Анны Карениной» и слева от «Дара».
Сапрыкин: Понятно, что изменение канона может происходить по разным направлениям. Речь не о том, что надо скинуть Пушкина «с парохода современности», а вместо Пушкина взять Кукушкина или добавить к нему критика Степана Дудышкина. Речь скорее о том, что, когда мы сейчас смотрим на всё те же привычные имена и названия из XIX века, вдруг оказывается, что один из главных сюжетов самой классической русской литературы — это освобождение женщины, обретение ею субъектности. А двумя поколениями раньше про эти же самые тексты принято было думать, что главное их содержание — это отражение объективно существующих в обществе противоречий.
Бабицкая: Это интересное свойство книг, входящих в канон: можно направить на них «луч феминистской критики», которой просто не существовало в Европе в XIX веке, а можно их читать как историю классовой борьбы. И каждый раз оказывается, что книга об этом!
Сапрыкин: Мы видим, как этот же процесс происходит в последние десятилетия на Западе. Уже не первое десятилетие идёт разговор о том, что существующий набор классиков как «мёртвых белых мужчин» не имеет отношения к сегодняшнему дню, что в этом каноне не хватает голосов представителей других социальных, этнических или гендерных групп. Мы в России этого не чувствуем, потому что в играх вокруг канона, которые происходят у нас в последние годы, главным действующим лицом является Министерство культуры, которое, наоборот, хочет зацементировать сформировавшийся список классиков. Ждут ли нас те же войны за канон, которые происходят в англоязычном мире, а может быть, они уже происходят у нас?
Лев Оборин: С одной стороны, налицо как бы «два враждебных полюса», две школы отношения к канону, и одна из них сейчас с треском проигрывает. Есть, условно говоря, та самая высокомерная позиция «мёртвых белых мужчин», которую, например, отстаивает Гарольд Блум в своей книге «Западный канон». Он говорит: «Наша жизнь коротка, и всего мы, к сожалению, не прочитаем. Тем не менее у той культуры, внутри которой мы с вами находимся, есть определённые основания, и хорошо бы их знать. Хорошо бы понимать, на каком языке мы разговариваем». Это вполне легитимная точка зрения. С другой стороны, существует школа, набирающая влияние ещё с 90-х годов, которая говорит, что та культура и тот культурный воздух, которым мы располагаем, — это, с одной стороны, цепь случайностей, с другой стороны — сознательная политика по насаждению только одной идентичности и только одной системы мыслей. Вьет Тхань Нгуен, известный литератор и мыслитель вьетнамского происхождения, живущий в Америке, говорит: канон не проиграет, если в него будут включены представители литератур самых разных народов. Наоборот, он обогатится, и нечего бояться, что мы что-то упустим. Мы каждый день употребляем столько информационного мусора — почему бы не занять голову чем-то более важным и интересным? В конце концов, Пушкин произнёс «Мы ленивы и нелюбопытны» почти 200 лет назад, и с тех пор мало что изменилось. Раньше критики изменения канона с раздражением говорили: «Нас заставляют читать произведения иных культур по какой-то политкорректной квоте». Сейчас в западной литературной прессе отношение к этому изменилось: «Вы так об этом говорите, как будто это что-то плохое». Да, разные авторы должны быть представлены, потому что это обогащает наше сознание и делает нас менее косными, менее шовинистами, а Шекспир при этом никуда не денется.
Понятно, что канон менялся всегда. Скажем, богатство античной литературы, древнеримской или древнегреческой, во II веке нашей эры представлялось книжнику совершенно иным, чем сейчас. Он знал все не дошедшие до нас тексты Еврипида, Эсхила, «Диалоги» Платона — не фрагментами, а полностью. Изменения канона сейчас не предполагают уничтожения текстов — книги не жгут, их копируют. Они предполагают калейдоскопичность, уход в тень одних элементов и выход на авансцену других. Это просто вызов нам и нашей оперативной памяти. Представление о том, что канон текуч, и даёт нам силу рассуждать о нём. Не случайно на «Полке» мы подчёркиваем, что наш список — это срез канона на 2018 год.
Внутри фэндом-сообществ существует пласт каламбуров про cannon и canon, «пушки, уничтожающие каноны». Кстати, о фэндомах и так называемом простом читателе. «Полка» — это достаточно традиционное обращение к экспертному мнению. Между тем, думая, какое бы кино посмотреть, мы можем зайти на сайт IMDb и посмотреть, что там в списке самое интересное. У нас, к худу или к добру, пока нет настолько же авторитетной площадки, которая делала бы то же самое с книгами. А у американцев, например, есть Goodreads. Я, видя, что у текста 4,5 или 4,8 звезды на Goodreads, понимаю, что на эту вещь стоит обратить внимание. Коллективный разум, к которому принято относиться свысока, тоже помогает войти в будущее, сколько бы мы ни говорили возмущённо, что те или другие книги — это низкая культура, не интересно, не отражает современность.
Другое дело, что, смещаясь с авансцены и уходя немного в глубину, экспертное мнение в свою очередь влияет на канон. В кино — хотя бы потому, что там крутятся большие средства и никто не сделает фильм просто так — проводится большая исследовательская работа, которая показывает, что он понравится куче народа. С литературой не так: мы имеем дело с очень обманчиво простым материалом. Почему мы постоянно сталкиваемся с графоманией? Почему на сайте «Стихи.ру» семьсот тысяч человек пишут стихи и считают себя новыми поэтами, почему такой безумный объём самотёка в редакциях журналов и литературных премий? Потому что кажется, что с языком иметь дело очень легко. Сейчас мы наблюдаем очень интересный и сложный процесс, который в итоге и определяет, что войдёт в будущее и как часто будет меняться мнение об этом.
Сапрыкин: И это происходит буквально на наших глазах. Например, представить себе, что одна из главных детских книг всех времён и народов была опубликована на нашей памяти: мне было 30 лет, и в журнале, где я работал, ещё до публикации печатали её первую главу, — а сейчас кажется, что «Гарри Поттер» был всегда, это какая-то нерушимая скрепа. И мы видим, как возвращаются из небытия какие-то пропущенные культурой имена и тексты — Всеволод Петров, Павел Зальцман, Геннадий Гор. За последние годы усилиями конкретных издателей и критиков эти тексты были впервые опубликованы, прочитаны и признаны критическим сообществом, и вполне возможно, что их ждёт существование в качестве канонических. Издательство Common place возвращает, прочерчивает целые линии литературы, которые были забыты или воспринимались как маргинальные: феминистская литература XIX века, или крестьянская литература, или тексты 1920-х годов о свободной любви. Каждый их сборник — это очень серьёзное кураторское высказывание, оно расширяет представления о том, как в литературе всё было устроено.
Горалик: Мне кажется, мы сейчас делаем некоторое предположение, важное и удобное, но и немного опасное. Мы априорно предполагаем, что мы говорим о хорошей литературе, которой мы позволяем быть феминистской, вьетнамской или крестьянской. И тут возникает интересный вопрос: когда мы говорим «возьмут в будущее» — мы что имеем в виду? «Составят канон» — в каком качестве? Это будет физически управляться — как? Если это произведение будет внесено в школьную программу или цитатами из него интеллигентные люди будут обмениваться, слегка наподдав, — это один канон. Но я всё это время думаю об огромном числе людей, важнейшую часть жизни которых составляют пресловутые Бушков — Устинова: это те цитаты, которыми они обмениваются, это те ролевые модели, которыми они пользуются. У меня нет понятийного аппарата, чтобы об этом говорить, но это — канон, очень серьёзный и важный. Эти тексты войдут в будущее другим способом.
Оборин: Я давно заметил, что поп-культура нашей современности, существующая в данный момент времени, которая сейчас кажется нам полнейшей ерундой, лет через десять вспоминается со страшной ностальгией — и кажется, что это очень хорошо. Все мы, наверное, с нежностью вспоминаем русскую поп-музыку 90-х годов и думаем о том, насколько это было прогрессивно, замечательно, никто больше такого не делал. И так называемая низкая культура, безусловно, тоже даёт свои высокие образцы.
Сапрыкин: Ностальгия по 90-м, я абсолютно уверен, связана с тем, что во взрослое состояние перешли люди, которые в 90-х были детьми. Поверьте, мы, ветераны труда, не испытываем никакой ностальгии, например, по группе «Отпетые мошенники».
Оборин: Я хочу сказать — Умберто Эко, например, исследовал романы Яна Флеминга и показал их большую структурную вариативность и вполне вписал их в канон академического обсуждения. Я уверен, что и про Маринину, и про Акунина можно говорить на таком же уровне.
Сапрыкин: А почему вы так уверены? В 1910-х годах все читают романы Арцыбашева и кажется, что это — культурные модели, которые будут воспроизводиться из поколение в поколение. Потом уже в 1918-м вдруг по не зависящим от литературы причинам оказывается, что на самом деле нет.
Я могу предложить способ об этом подумать. В сборнике выступлений с прошлогоднего фестиваля «Вазари» я нашёл высказывание Гасана Гусейнова о том, что вот есть 60-е годы, есть большая советская литература, в которой всё понятно — кто хороший, кто плохой, кого возьмут в будущее, кого не возьмут. Дальше проходит несколько десятков лет — и текстами, в наибольшей степени выражающими то время, оказываются не «советские» или «антисоветские» литературные произведения, а протокол допроса Бродского, записанный Фридой Вигдоровой. Можем ли мы про современность сделать предположение: какой тип литературы, какой тип высказываний или текста самый «сегодняшний»?
Бабицкая: Проблема самой «сегодняшней» записи в телеграме или в фейсбуке в том, что она не войдёт в будущее по техническим причинам.
Оборин: Про «технические причины»: весь наш сегодняшний разговор напоминает известную историю о том, как в начале 1900-х годов всерьёз опасались, что лошадиный навоз превратится в самую страшную проблему середины XX века, улицы в нём погрязнут. Не исключено, что лет через 15 все книги человечества будут у нас в чипе, мы будем обращаться к ним через наш внутренний гугл и этот вопрос исчезнет навсегда. Весь мир превратится в наш канон.
Горалик: Нет. Восприятие всё равно будет занимать некоторое время. Не важно, где они лежат. Они уже сейчас лежат в гугле, но не в голове.
Сапрыкин: Чип не чип, но тип читательского сознания или читательской практики может измениться бесповоротно, а может, уже изменился. Огромное количество текстов, которые мы воспринимаем как самые важные (по состоянию на эту минуту), мы читаем в процессе того или иного сёрфинга, и совершенно не важно, что это — пост нашего приятеля в фейсбуке или скопированная туда же цитата из Бибихина, старое, случайно всплывшее стихотворение, какой-то остроумный твит. Мы пролетаем по этому потоку, немного останавливаясь на том, что нас эмоционально цепляет.
Бабицкая: Причём, поскольку собственное свойство текста совершенно неотделимо от читательской практики, то ещё во времена «ЖЖ», когда социальные сети были не такой привычной вещью, многие люди предпринимали попытки как-то зафиксировать и «канонизировать» свой текст. Например, издавая свои записи из «ЖЖ» в виде книги. Но это никогда не срабатывало, насколько я помню. Эти тексты на бумаге не живут.
Оборин: Ну почему. Дневник Маркина, по-моему, совершенно великолепный.
Сапрыкин: Или, например, Ильянен.
Горалик: Как человек, который очень интересуется дробной прозой, хочу сказать, что для меня появление соцсетей было невероятным подарком как для читателя: там внезапно находились люди, которые иначе никогда не стали бы писать, мы никогда не увидели бы их тексты. На самом деле, эксперименты со сложным включением текстов из соцсетей в продуманные авторские произведения были очень разные, в диапазоне от Ольги Зондберг и Станислава Львовского до каких-то более поздних, более структурированных вещей. И я твёрдо понимаю, что тексты Ивана Давыдова в его фейсбуке составляют большую радость моего существования: всем важно знать, как живут его коты!
Мы подняли очень важную тему фиксации писательских практик. Наше представление о чтении ужасно отстаёт от технологического, что ли, праксиса. Для нас текст — это то, что можно повторно взять в руки. Для нас мучительна мысль, что текст исчезнет. Я думаю, что в этом есть страх перед насильственным уничтожением текста, воспитанный просто историей культуры. Текст так часто отнимали, изымали, уничтожали, что на этом месте мы испытываем тревогу. Но мне кажется, что одной из важных практик восприятия текста в последнее время становится смирение с его сиюминутностью. Я помню, какое сильное впечатление на меня произвело появление приложения Snapchat, в котором запись живёт 24 часа. Это было как серпом по яйцам, извините. Я какое-то время не могла с этим смириться — а вдруг там будет написано что-то хорошее. И что? Потом понимаешь, что надо расслабиться и получать удовольствие и что мир изменился навсегда.
Сапрыкин: Это, при всём несходстве, как дзенские монахи, которые пишут свои тексты на опавших листьях, смиряясь с тем, что они пропадут, будут погребены под снегом.
Горалик: А ты как зритель стой и любуйся их работой. Это и есть твоё чтение, твой экспириенс.
Оборин: В таком случае в канон могут войти нелегальные скриншоты, — как известно, в Snapсhat нельзя скринить.
Горалик: И они есть. Появилась целая тема насильственной фиксации нефиксируемого.
Сапрыкин: Появилась журналистика скриншота. Материал, который представляет собой правильно подобранные и ещё не удалённые посты.
Горалик: Изумительный кураторский проект: «Скриншоты года»! Каждый год издавать книгу. И премию «Скриншот» — за текст, который никогда не существовал нигде, кроме соцсетей.
Оборин: Чем награждают лауреатов?
Горалик: Публикацией на странице премии.
Оборин: Ещё одним воспроизведением скриншотов?
Бабицкая: Причём награждают не автора текста, а автора скриншотов.
Сапрыкин: Награда — публикация в Snapсhat, которая исчезнет через 24 часа. А можно я верну вас в каноническую сторону? Смотрите: что делает книгу классической? У культуры в целом есть на это ответ: а) писатель сообщает тебе некую цельную картину мира — или языковой мир, который он создаёт, этот мир оказывается достаточно убедительным, чтобы тебе хотелось или было важным в нём жить. И в этом смысле, к примеру, Пелевин и Сорокин в некотором роде разрушают традиции и одновременно их продолжают. Они создают эту картину мира, один — на уровне идеи, другой — на уровне языка, но редко когда в рамках отдельного произведения. Корпус их текстов в целом может быть гораздо важнее, чем каждая их книга по отдельности. Является ли это гарантией их каноничности?
Бабицкая: Перед нашим разговором было очень интересное обсуждение премии «НОС». Я освежила в голове историю награждений этой премии и не могла не обратить внимания, что за всю историю существования премии «НОС», которая именно посвящена современности и исследует вопрос о том, что же такое новая словесность, есть писатель, который награждён четырежды. Это Владимир Сорокин. Пелевина там нет, насколько я помню. Мне кажется, никто не возразит — сегодня у нас есть несомненный классик.
Горалик: Огромное значение для канона в хорошем смысле слова имеет судьба книги после её написания: кто и как её издал, как он потом с этой книгой работает. И есть очень больная тема потерянных шедевров. Мы можем не сомневаться, что есть огромное количество великолепных книг, о существовании которых мы не знаем. Книги, которые выходят в региональных издательствах, мы не видим, не знаем и не узнаем. Ничего с этим нельзя поделать. К счастью, есть энтузиасты и подвижники, но их трудов не хватает, они не резиновые. Я сейчас буду маркетологом. Очень сложно говорить о том, какое значение имеет критика. Потому что полюс критики очень смещается. Уже сейчас на «Амазоне» отзывы читателей имеют гораздо большее влияние на продажи, чем любой critical acclaim, это просто несравнимые цифры. По большому счёту работа с критиками имеет гораздо меньшее значение сейчас, чем спланированные работы издательств с читателями-энтузиастами, которые пишут отзывы. Премии иногда имеют очень маленькое значение, иногда — очень большое. Иными словами, мы можем сколько угодно говорить о таланте, о языке, о том, о сём, но у книги есть её бытовая повседневная судьба, грустная или прекрасная. Об этом нельзя умалчивать.
Оборин: Иногда эту судьбу вершат совершенно не литературные инстанции.
Горалик: О да, например, когда книгу надо запретить.
Оборин: Никто не будет оспаривать каноничность в русской и мировой культуре романа Замятина «Мы», несмотря на то что в России он вышел в 80-х. А насчёт того, что вы говорили про отзывы на «Амазоне» и про критику, — тут как раз во многом проблема в том, что критика смыкается с маркетологией. Та критика, которую выносят на обложку. На каждом романе мы прочтём, что это «Splendid!», «Breakthrough!», что это pageturner и так далее. От этих слов уже устали.
Горалик: При хорошем маркетинге там будут другие слова. Но меня в контексте нашего разговора страстно интересует другое — у меня в голове давно возникает такое понятие, как «профессиональный читатель». К слову, о тех же отзывах на «Амазоне» — есть люди, которые читают больше, чем любой литературный критик. Которые изумительно пишут о книгах. Которые не публикуются нигде больше, у которых нет другой жизни в качестве критиков. Но их мнение имеет огромный вес. Есть люди, которые писали о книгах в «ЖЖ», а теперь они — одни из наших лучших литературных критиков. Или критиков, которые пишут о театре и кино. Другая сторона — если мы говорим про корпусы текстов. Кроме того, что у нас появился фантастический корпус авторских текстов, создаваемых в соцсетях и мессенджерах, про которые мы не понимаем, с чем их есть, у нас появился потрясающий корпус спонтанной критики — я даже не знаю, какими словами её назвать. Зафиксированных письменно отзывов на культурные события. И это потрясающе.
Сапрыкин: Данилкин когда-то цитировал в рецензии отзыв читательницы на книгу Андрея Геласимова: «Мне 40, и я плакала». Много лет не могу это забыть.
Оборин: Полина Колозариди сделала выставку непрофессиональных отзывов, в том числе — на классику. Условно говоря, человек на одном из сайтов с возможностью комментирования читает «Мастера и Маргариту» и пишет о том, что его задело. Я с восторгом читал эти отзывы: человек, впервые читая роман, воспринимает его как сериал: «А он-то что сейчас сделает? Ну, этот дьявол и хватил!»
Бабицкая: В Москве недавно была выставка записочек, которые писали слушатели на выступлениях Маяковского. Это совершенно поразительно!
Оборин: Кстати сказать, эти совершенно маргинальные в контексте Маяковского документы, мало учтённые, довольно много говорят нам о трагедии Маяковского вообще. Если человек получает такое на каждом выступлении пачками…
Сапрыкин: Вместе с тем они довольно много говорят нам о том, насколько нов этот феномен комментариев к постам или к деятельности публичной фигуры. Нам кажется, что такого раздражения в адрес любой публичной фигуры, которое сейчас мы видим в интернете, раньше не было. А смотришь на эти записочки и понимаешь: нет, всё одно и то же!
Бабицкая: Более того, сериал «Чёрное зеркало» снимает целую серию об интернет-травле как об антиутопии. А Маяковский, получавший такие записки, видел всех этих людей в лицо!
Сапрыкин: К вопросу о пользовательских отзывах. Лев вспоминал про Goodreads, а для меня уже много лет мерилом является сайт IMDb — большая глобальная база данных по кино, с пользовательским голосованием, где эта мудрость толпы удивительным образом оказывается почти во всём совпадающей с мнением критиков и институций, ответственных за канонизацию. Если ты видишь оценку 8 или 9, то наверняка это великий фильм, «Крёстный отец». За одним исключением: ровно такие оценки стоят у большинства фильмов, снятых по комиксам Marvel или по «Звёздным войнам». И отзывов на них — миллионы, оценок — миллионы, и попробуй сказать этим людям, что это менее канонично, чем Триер или Бергман.
Горалик: Мне кажется, что у нас было счастье своими глазами на своём веку наблюдать, как низкое становится высоким и маргинальное — каноническим.
Бабицкая: Как учит нас история литературы, это наблюдает каждое поколение на своём веку.
Горалик: Я имею в виду целый огромный пласт культуры — сериалы. Мы имели Богом данную возможность отсмотреть в сознательном возрасте, как это происходит. И это потрясающе.
Сапрыкин: У меня есть серьёзные подозрения, что лет за десять были сняты все канонические сериалы, все вершины жанра, и сейчас мы уже переживаем его упадок.
Горалик: Да ладно вам! Во-первых, я смотрю сериалы по 15 часов в сутки, потому что я под них работаю, как люди — под музыку. Я смотрю очень много всего, в том числе — чудовищного маргинального говна. Происходит много интересного, особенного в этой области. Во-вторых, у всякого жанра есть такая механика, когда сначала маргинальное доходит до уровня высокой культуры, потом начинается спад, потом на периферии начинают возникать новые жанровые вершины, потом это всё входит в канон. Сейчас мы в очень интересном месте.
Бабицкая: Поразительно то, что после того, как сериал — «низкий жанр» — вырос и канонизировался, он сам по себе внутри расслоился. На «высокий жанр» и…
Горалик: И тут я скажу слово «аниме» — и весь наш разговор станет полностью неполноценен. Существует гигантский пласт культуры, который называется аниме. Это по большей части японские анимационные сериалы. Некоторые из них содержат тысячи эпизодов, некоторые — по нескольку эпизодов. Западные сериалы с этим пластом культуры по численности, по количеству наименований просто не стоят даже рядом. Параллельно с нашим миром существует гигантский мир, составляющий центр жизни многих людей, постоянный их культурный контекст, их ролевые модели, их канон, их будущее — то, на чём росли они, на чём растёт несколько поколений и так далее. И весь наш разговор здесь — это крошечная маргиналия на полях этого мира.
Сапрыкин: Напоследок осмелюсь задать вопрос: какие современные тексты и современные авторы через несколько лет или десятков лет тем или иным представительным читательским сообществом будут восприниматься как канонические? Здесь присутствующих можно не называть.
Оборин: Исходя из моих представлений, это будет Владимир Сорокин, Мария Степанова, причём в обеих ипостасях. Это будет Виктор Iванiв. Я думаю, что это будут тексты Полины Барсковой и, в общем, ещё много всего, что мне прямо сейчас в голову не приходит. Меня вообще интересует некоторое возрождение модернистского письма, и там можно много называть, но я, наверное, больше про поэзию готов рассуждать в этом отношении.
Горалик: Я в последние годы тяжело читаю прозу, моё основное чтение — это поэзия и нон-фикшн. Когда мы говорим про канон, мы почти не говорим про нон-фикшн. Нам кажется, что это — поэзия и проза. Мне кажется, что сейчас какой-то прекрасный век нон-фикшна и популяризации знания в целом и что большую часть канона будет составлять нон-фикшн в его новом бытовании. Я не буду называть конкретику просто потому, что я лучше всего ориентируюсь в той узкой теме, которой занимаюсь, — теории костюма, но я прямо вижу, как происходит волшебная вещь: у нас на глазах создаются тексты, которые становятся краеугольными камнями целой дисциплины.
Бабицкая: Я хотела обратить внимание, что мы сегодня говорим, почему-то имея в виду художественную прозу, а читаем-то мы в основном нон-фикшн. Про одного автора я уверена, что он уже вошёл в будущее, потому что он, к несчастью, уже умер, — это Григорий Дашевский, который просто сформировал мышление многих своих коллег до такой степени, что никуда оттуда уже не денется. Мне трудно оценивать, такую ли роль сыграла и его поэзия, но нет сомнений насчёт его бытования как критика, формирующего мышление о книжках и о жизни, на самом деле…
Горалик: Юра, а вы сами?
Сапрыкин: Мария Степанова, Владимир Сорокин, Дмитрий Данилов.
Вопросы из зала
Дмитрий Баюк, историк науки, кандидат физико-математических наук: Когда я вчера услышал, что вы будете говорить о литературном каноне, был очень удивлен, вот почему. Вчера Линор рассказывала о своём спецкурсе в Высшей школе экономики по истории костюма. И она говорила о норме в одежде и их нарушениях. Прямо не было сказано, но было понятно, что следующие нормы формируются из нарушения предшествующих наиболее ярким и вопиющим образом. Правильно я понимаю?
Линор Горалик: Из расшатывания текущей нормы.
Баюк: Я объясню, что имею в виду. Вообще говоря, в западноевропейском словоупотреблении «канон» возникает в четвёртом веке на Никейском соборе. Евангелия, как известно, пишутся в течение двух-трёх веков, их становится так много и они столь противоречат друг другу, что надо какие-то из них отсечь. И вот Никейский собор выбрал четыре Евангелия, которые были объявлены каноническими, а все остальные Евангелия признаны еретическими. То есть человек, которые выходит со своим неканоническим Евангелием, отправляется на костёр. Была создана определённая служба, которая далеко не сразу, но со временем стала называться инквизицией — Congregatio Inquisitionis, и эта служба до начала XIX века следила за каноном. То есть в церковной практике кроме пастыря и паствы появлялись ещё некоторые институты, которые следили за соблюдением канона, сама по себе инквизиция только определяла, является ли данный человек, подозреваемый в еретизме, еретиком, а сам акт сожжения производили светские власти. В нашей современности есть много чего. Например, есть такая служба — Следственный комитет. Замечу, что это есть точный перевод Congregatio Inquisitionis на русский язык. И при этом символика — чёрный и красный цвета, тайна собрания — не случайна, в точности соответствует…
Сапрыкин: Совершенно пелевинская мысль.
Баюк: И я бы сказал, что литературный процесс не ограничивается писателями и читателями. С таким сомнительным и очень спорадическим вмешательством критиков там задействованы ещё некоторые институты. Мне бы хотелось у вас спросить: если вы выбрали слово «канон», как вы видите существование канона в более широком социальном контексте, нежели чисто литературный?
Оборин: У нас есть подобная институция, она называется средняя школа. И влияющее на неё министерство образования. Довольно часто, когда мы говорим про «Полку», то, что мы делаем, пересекается со школьной программой.
Сапрыкин: Или находится в полемике, или отталкивании, или притяжении к ней.
Оборин: С одной стороны, все соглашаются, что есть какой-то обязательный культурный минимум, которым надо оперировать. С другой стороны, постоянные попытки его модифицировать ведут к его полной неудобоваримости. Точно так же, как не все правила всех Вселенских соборов может запомнить любой каноник. Перед нами, с одной стороны, нормализующая организация, с другой — я не понимаю, каким образом она влияет на существование культуры, если даже у людей, напрямую ей подверженных, есть эффективные способы противодействия, в лице сайта briefly.ru или всех сочинений по ЕГЭ, просто сводящие всю нормализацию к абсурду, который надо пережить и выкинуть из головы. Точно так же, как во многом и религия для людей является просто формальностью в разные эпохи. В XIX веке у чиновников требовали справку о причастии. В каком-то смысле такая институция культуру абсолютно формализует, и её наличие — скорее проблема.
Сапрыкин: У меня есть серьёзное подозрение, что на нашем веку мы увидим, как современная школа затрещит по швам и начнёт заваливаться, точно так, как это сделала на наших глазах Коммунистическая партия и советская система в целом. Опять же, это будет по-своему трагический момент, не только надежда на обновление. Что касается литературы — помимо этой системы взаимного обмана и притворства, что дети читают то, что от них требуют, есть ещё и важный момент, который сводит на нет все угрожающие усилия министерства образования, — то, что оно по-прежнему исходит из некоторой просвещенческой парадигмы, что ученик является пластичным объектом, которому учитель может придать нужную ему форму. Что если мы введём в школе уроки любви к танку Т-34, например, то это сформирует любовь к танку Т-34. Если исходить из этой парадигмы, то мы с вами должны до сих пор строить коммунизм. Но этого не произошло. И не произошло уже тогда, когда нас пытались этому научить.
Горалик: Есть ещё такое предположение, что если мы введём любовь к «Анне Карениной», получится любовь к танку Т-34. Есть два нюанса: есть школы и есть люди, которые пытаются сквозь это пробиться и делать свою программу и свою жизнь. Второе — это то, что есть ужасно интересная вещь, которую всё-таки делает с людьми это фальшивое обучение литературе. Оно прививает определённый «список вины» — guilt-list. Ты знаешь, какие книги ты должен был бы знать и любить, если ты культурный человек. И вот это ты проносишь через всю жизнь. Этот guilt-list — это то, что ты приобретаешь в школе на уроках литературы.
Оборин: «Полка» во многом играет на этом «листе», пытаясь показать, почему это так классно на самом деле — не заставлять, а объяснить, почему это так круто.
Бабицкая: Вам и так придётся читать «Анну Каренину», но мы расскажем, что хотя бы вы можете это сделать с удовольствием.
Александр Курицын, программный директор фестиваля «Вазари»: Во-первых, я хочу сказать, что первый канон разрушился с изобретением книгопечатания фактически. То, что изобретён интернет, уже многие считают, что это событие сродни изобретению книгопечатания, так же разрушает все каноны. И в этой связи я хотел спросить: почему вы такие оптимисты, может, лет через 50 вообще никакого канона не будет? Уже сейчас существует несколько канонов, даже говоря про Россию. Даже наш священный идол — валюта — становится децентрализованным. В связи с изобретением криптовалюты.
Сапрыкин: У меня есть ответ на этот вопрос, связанный как раз с «Полкой». И тем, как мы себе или своим читателям объясняли, почему это надо делать. Потому что у человека всё равно есть какие-то естественные познавательные потребности. Человеку интересно узнать, как устроен он сам, его материальная и нематериальная сторона. Человеку интересно узнать, что его сформировало, какие влияния сделали его таким, какой он есть. Интересно узнать, как устроено общество, в котором он живёт, или страна. И так далее. И литература — это среди всего прочего неплохой «портал» к этим знаниям, гораздо более точный местами и эмоционально убедительный, нежели строгие науки. Это возможный ответ на вопрос «зачем канон?». В том, что — да, конечно, этот корпус текстов в том числе рассказывает тебе и об этом. А это не просто какой-то список внеклассного чтения, который нужно успеть прочитать, пока не окочуришься.
Бабицкая: Но нас спросили, может, канона не будет вовсе?
Сапрыкин: Может, может.
Бабицкая: Может, люди продолжат читать книги с этой же целью, но они будут как лубки, например. Один ничем не хуже другого.
Оборин: Упомянутое «пока не окочуришься» остаётся очень серьёзным канонизирующим фактором. Потому что именно напоминание о том, что надо что-то успеть сделать, заставляет как-то искать, что бы сделать получше.
Анатолий Голубовский, социолог, искусствовед, музейный консультант: У меня вопрос и комментарий. Вопрос: вы всё-таки рассматриваете «Полку» как какой-то канонизирующий инструмент? Поскольку там помимо развёрнутых комментариев к разным произведениям есть ещё и списки, в которые иногда входит нечто, созданное не так давно и вроде бы институционально ни к чему не относящееся. А с другой стороны, если иметь в виду guilt-list: вы рассчитываете на читателя «Полки» как человека, который прочитал уже что-то и пытается понять, или это в «Полке» есть нечто от рекомендательного сервиса? И не существует ли опасность, что материалы «Полки» станут заменой реальному чтению, поскольку, прочитав всё это, ты получаешь такую мощную и фундированную информацию, что это может кого-то освободить от собственно чтения?
Бабицкая: Наши тексты всё же не доставляют читателю того же эстетического наслаждения, что и «Анна Каренина», хотя, конечно, мы к этому стремимся. Нет, не заменит.
Сапрыкин: По второму пункту я абсолютно уверен, что это не так. Потому что для прагматической замены чтения существуют гораздо более удобные инструменты. Для чего эта замена нужна? Чтобы написать сочинение? Или чтобы не чувствовать себя дураком и знать, о чём там на самом деле речь? Тогда читай краткий пересказ, это гораздо удобнее статьи на «Полке». На сайте «Большой музей» я вижу огромный гид по живописи Михаила Ларионова. Я специально не начинаю его читать, пока не схожу на выставку Ларионова. И знаю точно, что потом он мне многое в ней объяснит. И мне кажется, что материалы «Полки» предназначены для уже прочитавших или для тех, кто находится в процессе чтения. Это такой экскурсовод, который объясняет, почему всё нарисовано так, какой у этого смысл и на что тут надо обращать внимание. Экскурсовод без выставки не имеет смысла.
Анатолий: Но вы исходите из привычных сценариев потребления, которые сложились уже давно. Мне кажется, что сейчас существуют иные сценарии потребления…
Сапрыкин: Для них есть более удобные инструменты.
Оборин: У нас слишком длинные тексты, чтобы это было так.
Александр Черных, журналист ИД «Коммерсантъ»: Я несколько лет назад был на мероприятии, где учителя литературы со всей России сидели и в своём кругу обсуждали будущее того самого списка литературы, который должен быть в школе. Одна партия учителей говорила, что детей литературе учат совершенно неправильно, что хватит их пичкать «библиотечкой народника», что с детьми надо читать в школе подростковую литературу, интересную им самим, и тогда это их замотивирует полюбить чтение в принципе. Другие говорили, что нельзя лишать детей скрепы в виде русской классической литературы, если они не прочитают в школе «Горе от ума», то они не прочитают его никогда в жизни. А это значит, что следующие поколения не поймут уже фразу про «княгиню Марью Алексевну» и так далее и это разрушит наше культурное пространство. Мне интересно ваше мнение по поводу того, кто прав, кто не прав, можно ли это как-то объединить?
Горалик: Одна из функций канона — это включение человека в культурное пространство. Мне совершенно не хочется ёрничать по поводу учителей, которые не хотят, чтобы дети не знали про «княгиню Марью Алексевну», я понимаю ту тревогу, которую они выражают. Лучшие из них видят культуру как некоторое цельное здание. Они считают, что человек, не имея ключей, всю жизнь будет топтаться в одной-двух комнатах и более того — он не научит своих детей по нему перемещаться. Но я понимаю ещё одну вещь: любой человек, которого когда-нибудь пытались кормить насильно, понимает, что таким образом больше размажут, чем втолкнут. Идея впихнуть в ребёнка весь канон русской литературы, может быть, дивно хороша, только это прагматически, видимо, нельзя сделать, за редким исключением. У меня есть детский читательский клуб, я езжу в разные места и там, когда есть время и силы, просто объявляю, что есть маленький текст, его надо заранее прочесть, потом мы с детьми встречаемся и его обсуждаем, как взрослый читательский клуб. И я убеждаюсь в поразительной вещи: неважно, какой текст ты обсуждаешь с детьми. Если ты просто проводишь с ними полтора часа и болтаешь про то, что текст можно читать вот так, повернуть, можно сделать с ним вот это, особенно когда ты им говоришь, что они могут просто сказать, что им не нравится и они его читать не будут, сесть в углу и ковыряться в телефоне. Они начинают вообще разговаривать про книжки, кто и что читает, советовать друг другу, на следующее занятие приносить своё. Этот вопрос не теории, а прагматики.
Сапрыкин: Я совершенно согласен. У меня есть несколько соображений и нет окончательного ответа. Во-первых, мы редко об этом задумываемся, но 99 % произведений, входящих в школьную программу, не предназначены для детей. Льву Николаевичу, Фёдору Михайловичу, даже Александру Сергеевичу не приходила в голову мысль, что их произведения будут читать 14–15–16-летние люди, показалась бы дикой и невозможной. А уж Лев Николаевич точно проклял бы всех, как человек, занимавшийся образованием, кому эта идея пришла в голову.
Горалик: Жалко, что мы никогда не увидим этот текст!
Сапрыкин: Наверняка какая-нибудь нейросеть в будущем сможет его написать. Важная оговорка: когда я говорю о системе или о школе вообще, я говорю именно о системе, а не о людях, которые очень часто способны в силу своего таланта, страсти и педагогического умения эту систему очеловечить и преодолеть. Но в системе заложена системная ошибка, извините за тавтологию. Ошибка предполагать, что человек в 16 лет может прочитать за месяц четыре тома «Войны и мира». Я не понимаю, кого мы таким образом обманываем.
Бабицкая: И главное — зачем?
Сапрыкин: Мне тоже страшно, что мы будем жить в мире, где мы не будем ловить цитаты, кто-то из здесь сидящих может не понимать, что было между Онегиным и Лариной. Но то, что это физически просто надо разгрузить, это совершенно точно. И ещё. У меня недавно был разговор с профессором Андреем Зориным, прекраснейшим историком литературы, который преподаёт в Оксфордском университете. Он говорит, что вообще вся система преподавания литературы, не только школьная, а вся, включая лучшие университеты мира, она сейчас перестаёт работать. Потому что задача, которая стоит перед этой системой, резко изменилась в последние 10–20 лет. Раньше эта система имела дело с людьми, которые по тем или иным причинам должны были прочитать или уже прочитали некоторый обязательный корпус текстов, и дальше его нужно было объяснить или интерпретировать, тем или иным способом. Сейчас она имеет дело с совершенно другой задачей: просто сделать так, чтобы человек что-то прочитал. Не заставить его, а создать этот навык, научить практике чтения. И в этом смысле методы сегодняшней средней школы работают, конечно, не идеально, мягко говоря. Я бы сказал, что чтение детям книжек на ночь в этом смысле работает лучше.
Горалик: Мне всё время хочется добавить: «И всё нормально!» Вчера столько разговоров было о современности и будущем. Мы — люди текстоцентричного мира. Его больше нет. Это очень важно понимать.
Бабицкая: Но мы-то есть.
Горалик: Это наши проблемы. Я серьёзно говорю. Это не проблемы тех, кому сейчас 14–15 лет. Больше нет того текстоцентричного мира. У меня довольно серьёзная проблема с тем, что я плохо знаю корпус текстов рэпера Оксимирона. Потому что это — сегодняшняя культура, это по-настоящему важно для огромного количества людей, я ничего в этом не понимаю…
Бабицкая: Но это же текст.
Сапрыкин: Рэпер Оксимирон — выпускник филологического факультета Оксфордского университета. Он не случайно всплывает в памяти, он человек той же культуры.
Горалик: Меня беспокоит, что огромное количество тех, кого мы называем «культурными людьми» нашего поколения и старше, вслепую не видят этого поворота, этой огромной новой культурной парадигмы. Мне больно это говорить, но не так много людей по-настоящему знают тот литературный канон, который было положено знать культурному человеку времён Пушкина, — и ничего, никто не плачет. Как в известной шутке, Пушкин не читал Достоевского — и ничего. Чувствую, что люди будут жить без Достоевского и Пушкина — и тоже будет «ничего».